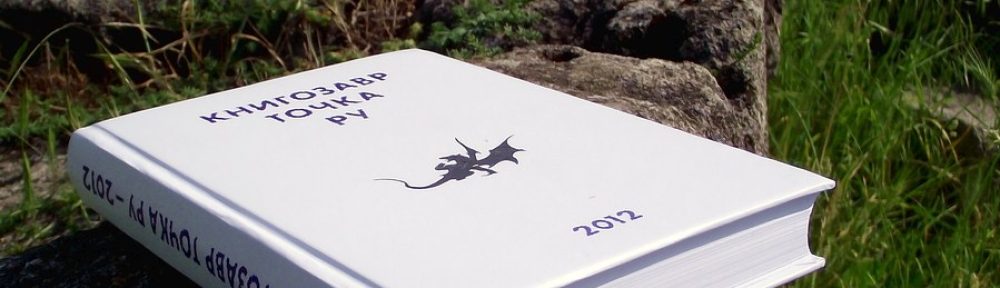Архивы автора: ABTOP
Александр Павленко. Головой об стену
В одном из эссе Борхес иронизировал по поводу исторической судьбы исландских саг: их стиль, их повествовательная структура идентичны лучшим образцам романов второй половины ХХ века, но в своё время, в раннем средневековье, все литературные открытия саг были невостребованы и раннесредневековая скандинавская литература осталась маргинальным курьёзом истории литературы.
Довольно часто, обращаясь к презираемым большинством синефилов национальным кинематографиям СССР, я обнаруживаю в них прямых предшественников наиболее ярких кинооткрытий более поздних времён. Узбекская, киргизская, таджикская… а также эстонская, латышская, грузинская кинематографии на удивление богаты шедеврами, которые никого, в сущности, не интересуют.
УРОКИ ЧТЕНИЯ Александра Кузьменкова «НЕПРАВИЛЬНАЯ ДРОБЬ»

А. Иличевский «Математик»; М., «АСТ», «Астрель», 2011
Главного героя книги зовут так же, как лидера группы «Ногу свело» – Макс Покровский. Однако от тусклых его похождений и еще более тусклых рефлексий сводит вовсе не ногу. В основном скулы.
Читать далее
Ольга Эдельман. Библиотека Габсбургов, старые библиотеки
Демьян Фаншель. «Bestseller» – «наиболее продажный, продаваемый»
Всегда удивлялся: почему говорится: «западники» и «русофилы»?
Ещё раз.
Для тех, у кого нет абсолютного слуха: почему «западники» и «русофилы»?
А не, скажем: «вестерники» – и русолюбы»
Или вот, например: почему премия – «Национальный бестселлер»?
Почему не перевести, наконец, на русский, наконец? Её, премии, название. Чтобы – без секретов. Для не знающих английского.
Читать далее
В-Глаз от Елены Хмелевской. «Мелодия для шарманки». Не без пафоса, но искренне
На любой фильм, а уж на такой, как «Мелодия для шарманки» — в особенности, всегда найдутся критически настроенные зрители, которые уж точно найдут, за что его ругать: за статичность или некую однообразность повествования, за предсказуемость или за недоработанность т. н. побочных сюжетных линий (только побочные ли они…). Да мало ли за что… Вполне возможно, в чем-то критики будут правы, но лишь отчасти. Потому что главное в фильме — все-таки совсем другое.
Читать далее
Элтон Иван. Шорт-лист литературной премии имени Юрия Казакова. «Анна Матвеева. Обстоятельство времени»
Силы для обзора находятся с трудом. Мы – в иной земле. И ведь не зря тролли, блюющие стружкой когнитивного диссонанса, мне говорили – Иван, вы в искусстве – чужой человек. Да. Здесь, в таком искусстве – я сразу тону, захлебываясь, превращаясь в нулевой указатель, окунувшийся в шуньяту (определение пустоты за пределами духовного восприятия).
Вы видели сороку на дереве?
Слышали?
Да, и не надо. Вот вам рассказ Анны Матвеевой. Читайте, представляйте, что на дерево с вашим домом села именно такая птица и тарахтит, тарахтит, и тарахтит, тарахтит — без умолку. Слов много, много букв, у мальчика – такой кайф – фамилия – Баянов. Это всё облегчает. В пределах контркультуры этот мега-плеоназм сразу же и был бы определен, как боян (неважно, что не «а»)
Читать далее
Сергей Сумин. Сто шедевров мировой литературы. А.Н.Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»
Книга эта появилась на прилавках столичных магазинов в мае 1790 года без указания имени автора, однако под невинным географическим названием таилось произведение огромной взрывчатой силы. В те времена, в царствовании Екатерины второй, простым крестьянам жилось несладко. Голод, притеснения жестоких помещиков и тяжелый труд сводили в могилу тысячи крестьян и крепостных ежегодно. Безусловно, должен был найтись человек, который подал бы за них голос. Этим человеком и оказался Александр Николаевич Радищев, дворянин, писатель-публицист.
ЛитМузей. Демьян Фаншель «Книги в детстве»
Какие были книги в детстве!
«С шахматами через века и страны»..
Большая, серая, массивная обложка, иллюстрации, — счастье!
До сих пор тоска: зачитали, увели.
Туда же ушли другие слоны: «Путешествия» Пржевальского..
Ещё..
Даже не хочу расстраиваться.
Таких теперь не делают: с тяжёлыми большими листами..
Остался на руках последний могиканин: «Меткие стрелки» (история оружейного дела) Т.Грица.
Читать далее
Валерий Смирнов. Крошка Цахес Бабель. 15

Крестовский Всеволод Владимирович
1840-1895
Читать далее