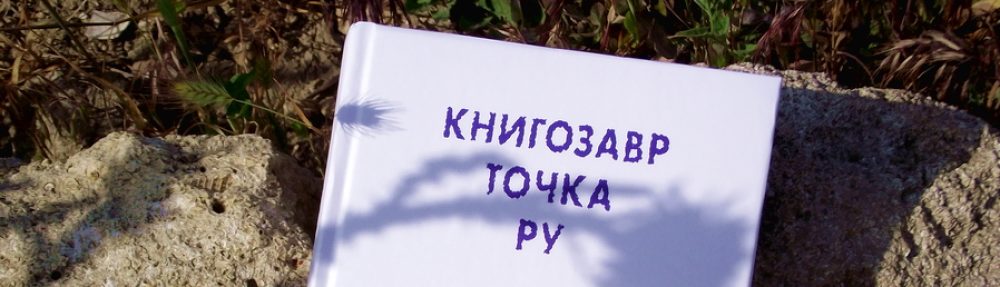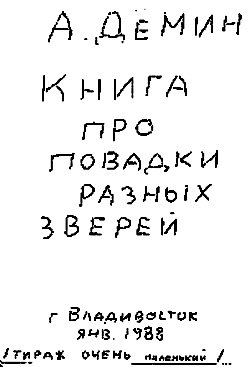
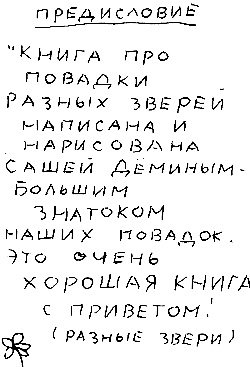
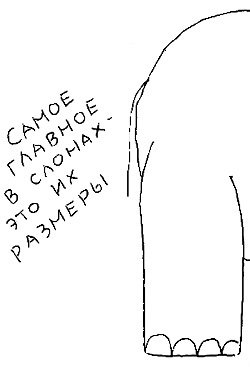
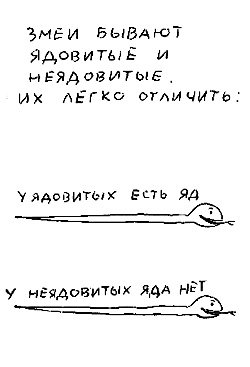
В финал детской премии «Заветная мечта» вышли 43 текста

Список финалистов литературной премии «Заветная мечта» оглашен в Москве 25 марта. В нем значатся 43 текста. Награда присуждается в семи номинациях: двух главных (Большая и Малая премии) и пяти дополнительных (за лучшее произведение о современной жизни подростков, лучший дебют, самое смешное произведение, фантастику или фэнтези, детектив), сообщается в пресс-релизе «Заветной мечты». Лауреату Большой премии в 2008 году будет присужден приз в размере одного миллиона рублей.
Новый «Книгозавр»
По случаю краха предыдущего движка, на «Книгозавре» очередная смена дизайна и части программного кода. В ближайшее время я надеюсь восстановить большую часть контента, однако комментарии потеряны очевидно безвозвратно. К сожалению, пароли авторов и участников восстановить тоже не удасться, поэтому большая просьба ко всем пройти перерегистрацию. Все остальные функции портала будут восстановлены в течении недели.
Елена Блонди. «Разный Семен Беньяминов»
Однажды, в переполненном автобусе, затиснутая среди чужих пальто и угловатых сумок, я обратила внимание на руки сидящего поодаль мужчины. Крупные руки с жесткими сильными пальцами, сложенные на коленях. Тонкие нитки темного — работа, что въедалась годами и не отмоешь. И вдруг на пальце — старинный перстень. Тянула шею, любопытно очень, а не могла за серыми боками стоящих даже рукава увидеть, не то что лица сидящего. И три остановки домысливала — внешность, биографию, характер. А потом засмотрелась нечаянно в окно, и незнакомец вышел. Так и не узнала, какой же он был в целом. Хотя бы внешне.
Савицкая Наталья. «Свободные, Как Дети»
СВОБОДНЫЕ, КАК ДЕТИ…
(о книге Елены Блонди «Жить — можно!» )
Элтон Иван. Real Figase. Эльфа-Старлордз
Я начал с того, что зашел в личный топ-30 и тут понял, что автору не чужд хтмл. У меня ж был знакомый, который организовал общество «Мальчики хоп-хоп-хип-хоп-хтмл». Я об этом даже писал, но не здесь. Они там все ездили на досках роликовых и изучали хтмл, соревнуясь, кто круче. Это о хтмл (на том и все). Здесь же — внимание — новая летающая тарелка! И я, как потомственный уфолог, не мог не зафиксировать это событие.
Бошетунмай, «Варра». Рецензия
Согреешься сейчас, когда пойдём.
Привыкни засыпать землёй угли.
Пошли, дурак, к тебе. Смотреть твой дом.
Не мой, а твой. Заткнись же ты. Пошли.
Подкинь в костёр полено, да смотри,
чтоб мясо не сгорело, да послушай,
не захрустит ли ветка. У зари
всегда в запасе есть тела и души,чтоб нас подкараулить. Разруби
седло, и кинь попону где-нибудь поодаль,
чтоб, если доведётся, то в крови
её купали, а не нас. Вода у бродавчера была закатной целый день:
краснела, и на вкус солоноватой
казалась. И улыбчивая тень
куста чернела замшевой заплатой.
Он живёт
одним дыханием со мной, и я — как посох,
что подпирает леса тёмный гнёт,
не ведая задумчивых вопросово смысле тех затей, что в голове
звенят, и красят мысли тёмной охрой,
и я — как корень, сохнущий в траве
лишь думаю, что думаю, висок свойпохоронив в извилинах коры.
Их Бог — пастух. Они, об этом зная,
смирились, вынув гордость из души,
их их душа вдруг назвалась святая.
И ты на эту душу не дышисвоим чесночным запахом — не надо.
Какая разница, в какой стране умрёшь,
какая разница, какое будет стадо
пастись на ней? Молчи и не тревожьих Бога: всё равно, когда впервые
ты меч испачкал, кончился твой рай
в их представлении…
Проснулся? Брось. Я всё равно не спал.
Какая к чёрту разница? Пойдём
к тебе домой. Кажись, отвоевал
я в этот год. Устал. Потом убьём,дурак. Попей воды. Пойдём сейчас
рекой, и скормим рыбам все следы —
они с утра голодные как раз.
Похорони его. Попей воды.
Хорошие слова, да слог тяжёл,
а впрочем — все поэты хороши:
порхают над строкой, как ворох пчёл
на лугом, и слова их — просто пши,которое увидишь, и вздохнёшь
и позабудешь…
Рецензия на книгу Н. Дьяченко — «В любви как на войне все средства хороши»
С портала ВТОПКУ.РУ
Я не сомневалась, что еще не раз встречусь с Анджеликой Альпеншталь, но не ожидала, что увижу ее ФИО в подписях к художественным произведениям. Эта книга — сборник рассказиков о любви, и под некоторыми из них красуется: «(с) Автор идеи Анджелика Альпеншталь».
Пиздец. Теперь, чтобы хуйню писать еще и соавтор по идеям нужен.Вы, несомненно, такие рассказы читали. Классе в 9. А может и сами сочиняли. Знаете, как я шла по улице, такая красива и несчастная, а тут мимо с визитом в Москву ехал Арнольд Шварценеггер на лимузине и как бы меня сбил, но не сильно. А потом извинился, увидел мои глаза и влюбился, и взял с собой в Америку, а там его коварная жена пыталась нас отравить, но любовь сильнее… Нет, не сочиняли? Ну почитайте тогда эту книжку. Меня особенно впечатлил вольный пересказ «Призрака оперы» с русской девушкой в главной роли. Или как вам это: он был бедный студент, которого ждала стажировка в Болгарии, а она дочь богатых родителей. И вот он шел весь в тоске, а тут ему однокурсник: «Давай я угощу тебя наркотиком». Он и укололся. А потом пошел и сбросил ее с моста. И поехал в Болгарию. Или вот другой сюжет: героиня исследует льды в экпедиции с 15 мужчинами. Она некрасива и спит со всеми. Тут приезжает вторая женщина, красивая, и всем отказывает. Мужчины ее убили, а главная героиня вернулась домой, стала библиотекарем и больше ни с кем не спит. Идиотизм там во всем. Если героиня хочет поехать в Америку, она в тот же день покупает билет и летит. Кто сказал «виза»?
Местами книга идиотически смешная. Дальше цитаты.
Они перевернули гроб на бок, продемонстрировав очень раздраженному Анжею, что внутри пусто. Затем, отшвырнув его и пнув ногой, охранники ушли.
Анжей был потрясен выражением загнанного зверька, появившимся на ее личике. Ему стало так неприятно, что он едва смог переспать с ней.
Читать далее
Алексей Уморин «СОбАКА ПОДЕРЖАНАЯ»
Есть такие темы в литературе — «собаки подержаные».
Кусают, лают, могут даже загрызть, очень даже могут, потому что имеют немалый опыт. Беда одна: подержаные. То есть ПОЛЬЗОВАННАЯ, часто, полустёртая до позвоночника в районе спины из-за слишком частого пользования.
К числу пользователей таких «собак подержаных» я отношу авторов и авторесс подавляющего большинства гибких книжечек, а часто и из-под твёрдой обложки пишущих об одном и том же, об одном и том же, одном и…
И было бы плюнуть тут, да ведь дышать уже трудно от этих беспросветно однотонных — без неба, без воздуха, бессмысленных текстов, что и лают, и стреляют, и трахаются аж до полустёртости в районе спины (ибо писаны они в позе одной и той же), да ведь в стране остро не хватает уборщиц, шахтеров, токарей — всё тот самый труд, где более всего ценна спрособность к совершению одних и тех же движений в одной и тоже позе.
И платят там хорошо.
Господа писы! Вы скоро умрёте, и вас спросят: «Что полезного сделал ты пока жил, — ты сын/дочь собаки подержаной?» И что вы Им скажете? Там не порычишь.
…Словом, пока здесь, оформляйте хоть совместительство в шахту или же на ресепшн. — Кто уж на Том Свете станет проверять — полный или половинный рабочий день вы посвящали своему прирождённому, основному труду…
Петр Инкогнитов «Конкурсные, шаг вперед!»
Итоги конкурса рецензий
1. Горохов Сергей
Мне по долгу службы приходится пропускать через себя массу информации. Мне её приносят на бумаге, докладывают по телефону, в приватном разговоре, через официальные документы, что-то я урываю на уровне слухов, что-то подслушиваю в кулуарах. В этой информации есть информация совершенно ненужная в принципе, нужная, но не сейчас, важная и особоважная. Это не значит, что все, что я узнаю, правильно расставляется по значимости. Я часто ошибаюсь. Это связанно с двумя вещами – у меня нет большого опыта и подача мне информации такова, что ранжировать её бывает сложно. Самая лучшая информация для меня – это короткая депеша типа «содержание-смысл». В литературе это называется рецензия или отзыв. Сергей Горохов смог добиться баланса «содержание-смысл» как никто другой и сподвиг на прочтение обозреваемого автора.
2. Сергей Рок
Мне Сергей Рок понравился, прежде всего – лаконичностью. А лаконичность – это умение сказать многое малым количеством слов, правильно подобранных и расставленных. Подобранных – поскольку, чтобы подобрать правильные слова, а не пускаться в размышления и объяснения, нужно знать много слов. А расставленных – это потому, что надо уметь поставить слово так, чтобы в нем увидели смысл, который в него вложили. Вот Сергей Рок знает и умеет.
3. Брютова Олеся
Одной из важных форм межчеловеческого общения является провокация. Спровоцировать можно на определенное действие или полное бездействие. Или еще на что-то важное для провокатора. Произведение Александра Самойлова «Я-Книга» безусловно, провокация. Ибо заставляет призадуматься. Причем над многим. А почему я так подумал? Потому, что Брютова Олеся нагло спровоцировала меня, в двух словах спрятав суть авторской провокации и слегка присыпав, для большей наглости, ворохом лишних слов.
4. Дженни
Как известно, книга может дополняться иллюстрациями. Иллюстрация – это вообще отдельное искусство. Почему – спросите вы. Видимо, оттого, что, читая книгу, читатель в своей голове из буковок и слов выстраивает вполне зрительные образы героев и окружающих их действительности. Если картинка будет расходиться с созданным читателем образом, то он воспримет её как удар по собственной фантазии, она ограничивает её, ставит фантазию в рамки, от чего она перестает быть фантазией как таковой. А хорошая, грамотная иллюстрация, написанная художником по прочитанной и осмысленной книге, а не по мотивам одной страницы удачно дополнит любой текст. А может, даже подтянет его. А иллюстрацией в рецензии служат «авторские» строки, удачно вплетенные в текст рецензии, они дополняют её, усиливают эффект, который хотел произвести рецензент. В деле вплетения строк рецензируемого текста Дженни проявляет мастерство истинного художника.
5. Щемелинин Денис
Для тех, кто в теме — «Метро 2033» живет и процветает. Интерес к постъядерной эре – всегда лакомая тема для писателей всех мастей. Для российских писателей постьядерная тематика местом действия выбирает Россию, соответственно, со ссылками на местный колорит. Такие произведения, балансирующие на грани реальности и фантастики, будут, безусловно, интереснее, чем две предыдущие крайности. Автор рецензии просто указывает нам на это.
6. Борис Суросевов
Решил блеснуть и выдать спич. Про то, что он не осилил обозреваемого в течении ночи и как потом бухнул. Я тоже люблю бухнуть. И, по ходу, это единственное, что объединяет меня и Бориса Суросевова. Ибо больше ничего, кроме того, что мы любим бухнуть и не против завести любовницу помоложе, из обзора я не вынес. Даже не понял – стоит ли читать господина Аристарха Нилова или не стоит.
7. Шматок
Непредвзятый злыдень. Если такой есть, то я готов пожать его злыдистую лапу. Сам же я предвзятый злыдень. Очень предвзятый. Я задумался над тем, что есть непредвзятость и что есть предвзятость. И я не понял этого, не сумел пришить предвзятость и непредвзятость к данному обзору. Шматок, видимо, как-то смог. Но еще Шматок сумел сделать емкую и полную характеристику обозреваемого произведения – того нет, этого нет, этим тоже особо не нагружено. Там есть все – даже советы и рекомендации, которые совершенно неуместны, но нет одного – я так и не узнал, о чем, про что или про кого, фэнтези это или что-то еще.
8. Элтон Иван
Культура сексуальных отношений в сельской местности – тема, несомненно, интересная и многообещающая. И её надо рассматривать цельно, а не перескакивая с сексуальных отношений в сельскую местность и обратно. А если и перескакивать, то надо делать это более последовательно (и в другом месте).
Внеконкурс.
1. Квинто Крыся
Хотя рецензии как таковой я не уловил, но общие тенденции современной графомании уловлены с небывалой остротой, например, перемещение центра масс обсуждений со страницы в комменты, о деформации социокультурных ценностей путем снижения уровня лексического запаса, смысловой, пунктуационной и синтаксической проработки и прочих диагнозов, плавно подведя к черте, где болезнь неизлечима, и требует активной эвтаназии, не испугав при этом пациента и его родственников и коллег по несчастью. Да – графомания лечится – лечится путем творческой эвтаназии, путем отрывания клавиатуры и оставления мышки для игры в пасьянс (кстати, если ваше чадо ударилось в графоманию – лучший подарок для него – игровая клавиатура, ибо там только WASD и немного других кнопочек, для полноценного скрипт-процесса она не подходит).
2. Лембит Короедов
Лембит, после жизнеутверждающей массовой беллетристики с изнасилованными девушками и зажаренными собаками великий чернушник, поднесенный в рецензии в слегка препарированном и, оттого, аппетитном виде, доказал, что не все так просто, и что в нас живет подсознательный обоссанный плюшевый мишка, которым мы, шутя, пугаем друг друга, не подозревая, что у кого-то вместо плюшевого мишки по огороду прыгает чудовищный слон, способный проломить окружающим хрупкую скорлупку жизнеутверждающего оптимизма. И заставить заглянуть в себя удивленным взглядом обоссанного плюшевого мишки. Сильно про Силу.
3. Дженни
Вот я боюсь «тяжелого» чтения. Это из-за того, что по работе мне приходится читать и слышать много плохо перевариваемого текста. Поэтому я не читаю философские и псевдофилософские выкладки, ибо не могу (да и не хочу) вникать в полеты заоблачных авторских мыслей и отделять философию от словоблудия. Прочтя рецензию, я понял, что рецензируемый автор, воин блеска русской философии, сумел довести до читателя вполне простые и понятные вещи, не зацикливаясь на высоких и умных словах и не ударившись в объяснения по принципу «для младших командиров», заставив читателя удовлетворить основную потребность разумного существа — потребность думать.
4. Женя Павловская
В чем меня однозначно убедила Женя Павловская, так это в том, что Дэн Браун заслужил право быть сожженным на пионерском костре. Не за несусветную ересь и искаженное толкование неправдоподобных событий, а за то, что из простых вещей раздул настолько мощную систему тайных знаков, что все несуразицы и неправдоподобности теряются на фоне динамичного и запутанного сюжета. Брауна я не читал, токмо кино смотрел, там вообще многое не понял, ввиду умственных ограничений, а прочитанная рецензия подлила масла в огонь, и я вообще плюнул на попытку разобраться в написанном и увиденном. Зато меня убедили, что и от этого есть польза.
5. Павел Феникс
Вот уж начал за здравие и закончил ногами вперед. Дуглас Адамс – действительно культовый писатель – а «Автостопом по галактике» — действительно памятник современной культуры, субкультуры и контркультуры. Раздираемый всеми подряд на цитаты. Павел коротко и ясно смог разъяснить масштабы явления и обосновать необходимость приложится к этому источнику здорового циничного юмора.
6. А. Аливердиев
Идея оригинальная – сделать подборку справочного материала по принципу книжной полки Миллы Йовович, например. И добавить собственной аналитики, совсем немного. Но тут есть одна проблема – у Миллы Йовович очень широкая книжная полка. И обзор этой самой полки – штука очень длинная. Несмотря на то, что о творчестве хороших авторов сказано хорошо, но много раз хорошо – это уже не хорошо, статья получилась слишком длинной, и когда я читал в конце, я уже плохо помнил начало. Путешествие затянулось.