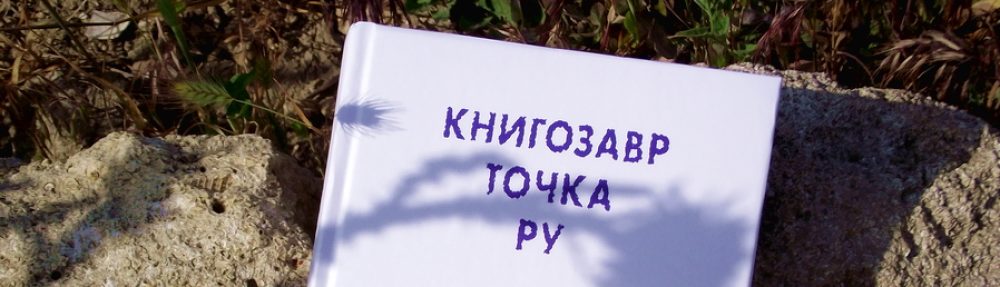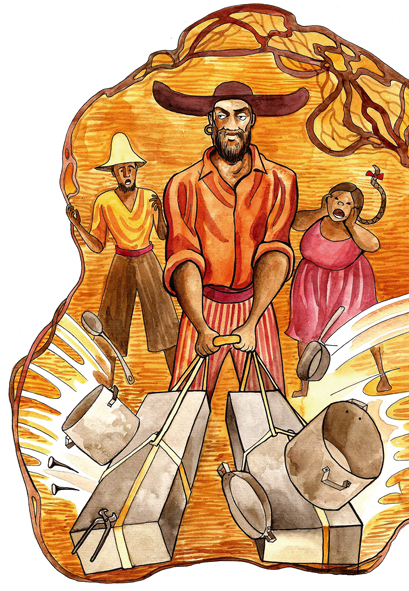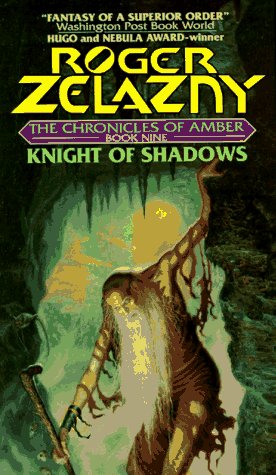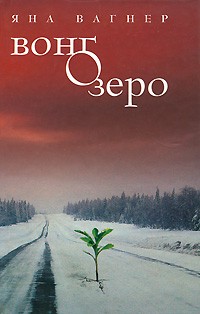…на короткий рассказ тратишь столько же сил, сколько нужно, чтобы начать большой роман. Потому что в первом же абзаце романа надо определиться во всем: как писать — в каком тоне, стиле, ритме, знать, как длинен он будет, а иногда даже обрисовать характер какого-нибудь персонажа. Все остальное — наслаждение самим процессом писания, требующим величайшего самоуглубления и одиночества, какое только можно себе представить, и если до конца своих дней ты не продолжаешь править и переписывать роман, то лишь потому, что та же самая железная сила, которая необходима, чтобы начать книгу, заставляет тебя закончить ее. А когда берешься за рассказ, там нет ни начала, ни конца: он или завязывается, или не завязывается. И если он не завязывается сразу, то — знаю и по собственному опыту, и по чужому — в большинстве случаев лучше начать его заново и совсем иначе или выкинуть в мусорную корзину.
Габриэль Гарсия Маркес. Из предисловия к книге «Двенадцать рассказов-странников»