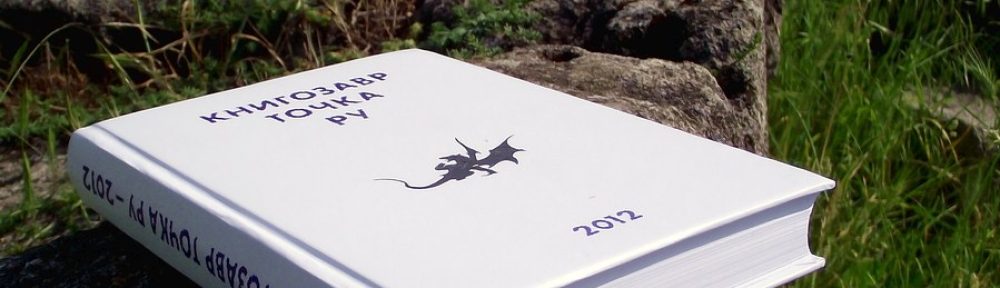Это небольшое произведение Джозефа Конрада вполне можно рассматривать как приключенческую повесть. По крайней мере, на первый взгляд, все так и есть. Перед нами рассказ Чарли Марлоу о путешествии вглубь колониальной Африки, куда он нанялся капитаном парохода, перевозящего слоновую кость.
Читать далее
Архивы автора: ABTOP
Конкурс рецензий «Кто похвалит СЕБЯ лучше всех?» Некрасивые девушки Юлиуса Иенсена
Большой конкурс портала КНИГОЗАВР и студии ФОРМИНГА! Кто похвалит СЕБЯ лучше всех?

Героиня романа всегда хороша собой. Если это главная героиня – у неё волосы цвета воронова крыла, алые губы и точеный носик. Или она, напротив, блондинка, нежная и легкая, тогда автор любовно выписывает тонкую талию и щедро добавляет парадоксально высокую при такой талии грудь. Если женщина играет в тексте роль второстепенную – что ж, ей дозволено быть серой мышкой, но не то чтобы некрасивой, нет, просто блеклой, исключительно чтобы оттенить красоту исполнительницы главной арии. Кстати, об ариях: оперные певицы часто крупные женщины, говорят, большое тело лучше резонирует. Тонкую юную Маргариту поет здоровенная тетка, размалеванная так, чтобы видно было с галерки. Оттого-то теперь многие не любят оперу: здесь прилюдно ломается граница между вымышленными литературными красавицами и их грузным земным воплощением. Но то опера, на бумаге все изящней. В самом деле, бытует как будто мировой сговор писателей: можно изобразить в романе женщину ветреную, легкомысленную, дуру полную, негодяйку, бросившую дитя ради любовника, да можно и вовсе падшую женщину – взять хотя бы Куприна или Пешкова. Но упаси бог сделать её дурнушкой! Читать далее
Sivaja_cobyla. Меня привлекло послесловие
«Small World, или Я не забыл»
Мартин Сутер
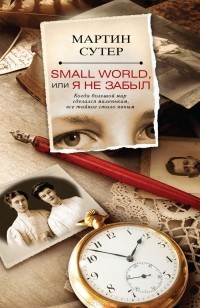
Как тяжело, наверное, работать рекламщиком! Никогда не знаешь точно, что привлечет, а что оттолкнет потребителя. Однако какие-то общие теории все же имеются, иначе не было бы на абсолютном большинстве ныне издаваемых «супербестселлеров» надписей про то, что «продано более миллиона экземпляров», «переведено на сотню языков». Видимо, это делается для того, чтобы читатель не раскаивался, что он один такой дурак, что купил этот шедевр. Или вот, например: «по дебютному роману этого автора снят мегаблокбастер» , причем частенько я при этом держу в руках отнюдь не тот дебютный роман. Я уж не говорю о портретах голливудских звезд на обложках русской классики. Похоже, это тоже должно привлекать. К чему я злобствую? Да к тому, что обложка и аннотация давно перестали быть для меня визитной карточкой книги, скорее наоборот, я научилась им не доверять. И в очередной раз убедилась, что права.
Читать далее
Jonny_begood. Гертруда Стайн «Автобиография Элис Б. Токлас»
«Автобиография Элис Б. Токлас» — единственная книга Гертруды Стайн, ставшая бестселлером. И к этому успеху писательница шла долго – предыдущие ее работы принимались публикой неоднозначно. Мисс Стайн скорее отпугивала читателя своими экспериментами, хотя и была уверена в своей гениальности. «Модернистская утопия Стайн заключалась в том, чтобы целиком и полностью заново овладеть языком – от отдельного слова, до литературной формы в целом. Занятая написанием романа, она неуклонно подрывала форму такового изнутри..» — пишет Елена Петровская.
Читать далее
Jane The Reader. Вересаев «Записки врача»
При-ле-те-ло! Илья Страптивых. Рецензия на книгу «Поколение iP» Казуна Антона

Честно говоря, я не очень часто читаю книги молодых авторов. И эту книгу приметил случайно. Дело в том, что я сам уже много раз участвовал в общероссийском конкурсе литературной премии «Дебют». Но добиться результата весьма трудно (по крайней мере, у меня пока не получилось), поскольку каждый год туда присылают более десяти тысяч работ, а выбирают лишь 100 лучших (не говоря уже о шести победителях). Этот автор попал в сотню (пусть и не победил), что внушает мне уважение. Я хотел прочитать книгу, когда увидел лонг-лист 2013 года, но в продаже обнаружил ее только сейчас, да и то лишь в интернете. В открытом доступе книги, к сожалению, нет, но на мой взгляд она определенно стоит своих денег.
Читать далее
Sivaja_cobyla. Акварель
«Божественная лодка»
Каори Экуни
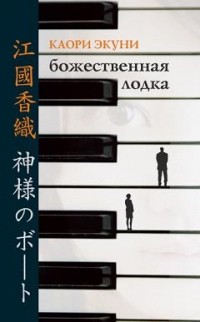
Текст Каори Экуни рождает ассоциации с акварельным этюдом. Сначала на влажный лист читательского любопытства быстро наносятся мазки нежных красок. Бледно-розовые воспоминания маленькой девочки, нежно-голубые слова из дневника ее матери. В них – город у моря, музыка, обласканные водой камни на песке, добрые соседи, семейные традиции, кофе с пирожными по воскресеньям и игры на широкой постели с плюшевым медвежонком и роботом Ари. И всегда рядом Папа, талантливый, сильный, умный, веселый и… воображаемый. Мужчина из воспоминаний женщины, дочь которой никогда не видела своего отца, но знает, что у нее его прямая спина и способности к рисованию.
Читать далее
Переводы Елены Кузьминой. Датский фотограф Симон Хёгсберг: Лица Нью-Йорка / Simon Hoegsberg, Faces of New York (& other projects)
Я провел на улицах Нью-Йорка целый месяц, по семь часов в день, в поисках людей, которые бы произвели на меня такое впечатление. Я нашел десятерых, и каждому задал один и тот же вопрос: Что вы думаете о своём лице?»
Джоан Дэрроу (Joan Darrow), имидж-консультант:
«Думаю, что красивое лицо дал мне Господь. Я благодарна за это. Многое в моей жизни связано с верой в Бога. Благодаря вере я излучаю красоту.
Очень важно принимать своё лицо. То есть, я могу пойти и сделать «пластику», а потом буду выглядеть как другой человек. Так зачем мне это делать? Я не стыжусь того, как выгляжу; здесь, несомненно, есть нечто духовное, нет ничего мирского, ведь мир постоянно твердит тебе: иди, сделай то и это…
Я почти не пользуюсь косметикой, не думаю, что она делает тебя привлекательнее. Не хочу демонстрировать свою косметику, хочу, чтобы видели моё лицо, потому что мне нравится то, какой меня создал Господь».
Читать далее
Алекс Павленко. Куда ж нам плыть? Часть вторая
Продолжение, начало тут
Как я уже говорил, нынче в Россиии распространены два мифа: об исключительных качествах русского искусства (скажем шире – русской культуры) XIX века и о ничтожестве советской культуры, то есть, русской культуры ХХ века.
О том, что первый миф основан исключительно на почве великодержавного шовинизма (Россия в XIX веке была одним из наиболее влиятельных в области политики государств мира, и это обстоятельсто до сих пор не даёт спокойно спать записным патриотам, грёзящим утекшим величием и мечтающим о реванше) и не имеет отношения к реальности, я уже написал. Теперь о втором мифе…
kenny_aint_dead. Исчисление kvakin-a

Все знаменитые игрушки и звери как-то непоправимо устарели и заперлись в своих мирах — цветочных мирках, кукольных театриках и прочих зонах отчуждения.
Поэтому каждая находка, хоть сколько-нибудь намекающая на такое, — не важно, с ужасами или без — вызывает трепет.
Читать далее