Трудно сказать, кого я читаю и люблю – слишком уж длинным будет список. Вот, например, отрывок из «Мельмота-скитальца» — почувствуйте экспрессию. Так что сегодня я читаю сам и с удовольствием рекомендую вам Мэтьюрена.

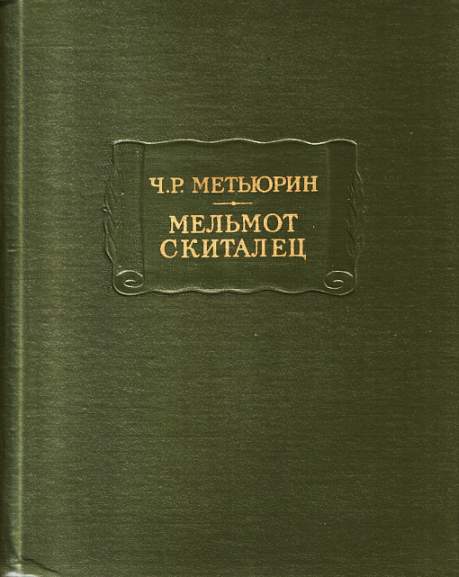
По всему Мадриду звонили колокола. Всем алькальдам были разосланы приказы. Сам король Испании (после нелегкого дня, проведенного за охотой) явился собственной персоной. Все церкви были освещены, и тысячи благочестивых людей, опустившись на колени, кто с факелами, кто с зажженными плошками в руках, молили господа, дабы грешные души, чья участь вверена Инквизиции, ощутили в пламени, пожиравшем сейчас ее стены, некое слабое предвестье другого пламени, того, что будет гореть для них вечно.
Пожар разгорался, творя свое ужасное дело и обращая на короля и священников не больше внимания, чем если бы то были обыкновенные пожарные. Я уверен, что двадцати толковых и привычных к этому делу людей было бы достаточно, чтобы его затушить; однако те, что явились, вместо того чтобы пустить в ход насосы, становились на колени и начинали молиться.
Пламя перекинулось вниз и в конце концов достигло двора. Неописуемый ужас охватил всех находившихся там людей. Несчастные, которые были приговорены к сожжению на костре, решили, что час их пробил. Совсем уже отупевшие от длительного пребывания в тюрьме и покорно исполнявшие все это время требования Святой палаты, тут они пришли вдруг в неистовство, и, стоило им завидеть надвигавшееся на них пламя, как они принялись громко взывать: «Пощадите меня, пощадите меня, не мучайте меня так долго». Другие же, став на колени перед приближавшимися к ним языками пламени, обращались к ним так, словно то были святые. Им чудилось, что к ним нисходят видения, которым они поклонялись, — непорочные ангелы и даже сама Пресвятая дева, — и что они примут в свои объятия их души, как только те взлетят над костром; и они выкрикивали аллилуйи, в которых слышались и ужас, и надежда.
Среди всего этого смятения инквизиторы оставались верны себе. Нельзя было не поражаться их твердости и спокойствию. Когда все уже было охвачено пламенем, они ни разу не сделали ни шагу в сторону, не шевельнули рукой, не моргнули глазом — долг, суровый, бесчувственный долг был единственным, чем и во имя чего они жили. Они напоминали собою фалангу воинов, закованных в непробиваемую железную броню. В то время как пламя бушевало вокруг, они спокойно осеняли себя крестным знамением; когда узники в ужасе начинали кричать, мановением руки призывали их к молчанию; когда те осмеливались молиться, они силой поднимали их с колен и давали им понять, что молиться в такие минуты бессмысленно. Ибо пламя, которое они так хотят сейчас от себя отвратить, все равно разгорится для них еще сильнее там, откуда будет некуда убежать и где для них не останется уже никакой надежды на спасение…
И вот, когда я стоял так среди других заключенных, меня вдруг поразила
необыкновенная картина. Может быть, в минуты отчаяния воображение наше
преисполняется особой силой, и те, кому выпало на долю страдание, могут
лучше всего и описать происшедшее, и его ощутить. Освещенная заревом пожара
колокольня Доминиканской церкви была видна как днем. Она почти примыкала к
тюрьме Инквизиции. Ночь стояла очень темная, но отблески пожара были так
ярки, что шпиль этой колокольни сверкал в небе, как метеор. Стрелки башенных
часов были видны так отчетливо, как будто к ним поднесли зажженный факел. И
это спокойное и тихое течение времени среди царившей вокруг смуты, тревоги и
всех ужасов этой ночи, эта картина агонии и тел, и душ, пребывавших в
непрерывном и бесплодном движении, вероятно, запечатлелась бы у меня в
сознании и необычностью своей, и глубоким внутренним смыслом, если бы
внимание мое не привлекла вдруг человеческая фигура, стоявшая на самом
острие шпиля и с невозмутимым спокойствием взиравшая на все вокруг. Ошибки
здесь быть не могло: это был он, тот, кто приходил ко мне в камеру в тюрьме
Инквизиции. Надежда, что теперь-то я смогу оправдаться, заставила меня
позабыть обо всем. Я громко подозвал одного из стражников и показал ему на
фигуру, которую при столь ярком свете нельзя было не увидеть. Однако ни у
кого не было времени даже взглянуть на нее. В это же мгновение арка
находившегося напротив крытого двора обрушилась, и к ногам нашим упала
огромная груда обломков и ринулось пламя. В это мгновение дикий крик
вырвался из всех уст. Узники, стража, инквизиторы — все отпрянули назад и
смешались, объятые ужасом.
Спустя несколько мгновений пламя это было погашено обрушившейся на него
новой грудой камня. Поднялось такое густое облако дыма и пыли, что
невозможно было даже разглядеть стоявшего рядом. Смятение сделалось еще
больше после того, как свет, слепивший нас в течение всего последнего часа,
внезапно сменился тьмой и послышались крики тех, кто находился возле самой
арки; покалеченные, они теперь корчились от нестерпимой боли под завалившими
их обломками. Среди всех этих криков и тьмы и пламени я увидел вдруг
открывшуюся впереди пустоту. Мысль и движение слились в едином порыве. Никто
не видел меня, никто за мной не погнался, и вот за несколько часов до того,
как мое отсутствие могли обнаружить и начать меня разыскивать, целый и
невредимый и никем не замеченный, я пробрался сквозь развалины и оказался на
улицах Мадрида.
Тем, кто только что избавился от смертельной опасности, всякая другая
опасность кажется уже пустяком. Жертва кораблекрушения, которой удалось
спастись, не думает о том, на какой берег ее выбросило волною; и хотя Мадрид
был для меня по сути дела тою же тюрьмой Инквизиции, только больших
размеров, достаточно было вспомнить, что я вырвался из рук моих судей, и я
преисполнился неизъяснимым, безмерным ощущением того, что я в безопасности.
Стоило мне только на минуту задуматься, и я бы, вероятно, сообразил, что моя
необычная одежда и _босые ноги_ выдали бы меня с головой всюду, куда бы я ни
устремился. Обстоятельства, однако, сложились очень благоприятно для меня:
улицы были совершенно пустынны; все жители города, которые не спали в своих
кроватях или не были прикованы к постели, молились в церквах, стараясь
умилостивить гнев небесный и моля господа потушить бушующее пламя.
Я бежал сам не знаю куда до тех пор, пока совершенно не выбился из сил.
Свежий воздух, от которого я уже давным-давно отвык, колючими шипами
впивался мне в легкие и гортань, пока я бежал, и совершенно не давал мне
дышать, хотя вначале мне и казалось, что теперь-то я могу дышать полной
грудью. Я очутился возле какого-то здания; широкие двери его были
распахнуты. Я вбежал внутрь — оказалось, что это церковь. В изнеможении я
упал на каменный пол. Это был один из приделов, отделенный от алтаря большою
решетчатою перегородкой. Сквозь нее можно было разглядеть находившихся в
алтаре священников в сиянии редких, только что зажженных светильников, а
возле ступеней его — нескольких человек, молившихся стоя на коленях.
Сверкавшие огни резко контрастировали с рассеянным тусклым светом,
проникавшим в окна придела; мне трудно было разглядеть при нем надгробные
плиты, к одной из которых я на минуту прильнул, чтобы перевести дух. Однако
оставаться там доле мне было нельзя, я не мог это себе позволить. Вскочив, я
невольно пригляделся к этой плите. В это мгновение словно по чьему-то злому
умыслу сделалось вдруг чуть светлее, и глаза мои различили все, что там было
начертано. Я прочел: «Orate pro anima» {Молитесь за упокой души (лат.).}, а
потом разобрал и имя: «Хуан де Монсада». Я выбежал из церкви так, как будто
за мною гнались сонмы дьяволов: вот оказывается, где я нашел себе прибежище,
— на могиле моего безвременно погибшего брата.
(с) Charles Robert Maturin «Melmoth the wanderer»
