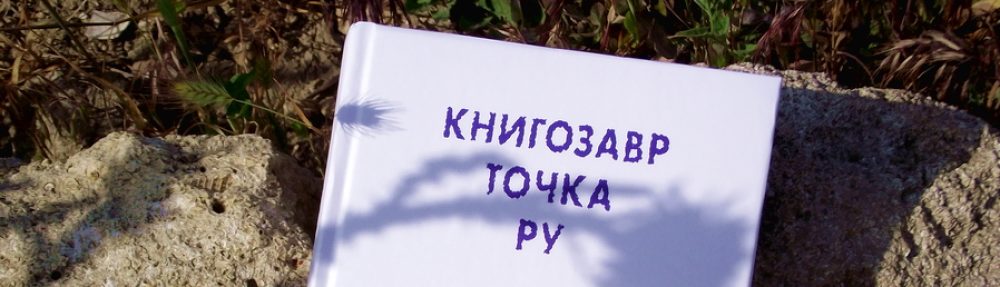Недавно я побывала на премьере спектакля народного коллектива республики Крым «Нового Любительского Драматического театра» Керчи «Двое из двадцати миллионов». Очень ко времени, ведь скоро 11-е апреля, день для нашего города одновременно печальный и радостный – день освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.
Время идет, выросли поколения, для которых те события уже в ряду с другими историческими событиями, и становятся просто главой из учебника истории, а между тем на улицах города все еще сохранились здания в шрамах от пуль и снарядов. (интересно, все ли из нынешних подростков могут без подсказки сказать, почему миллионов – двадцать и что это за миллионы…)
В 1984 году была опубликована повесть Алексея Каплера «Двое из двадцати миллионов», а через два года писатель и сценарист Владимир Кунин взял тот же сюжет и написал по нему киноповесть, и эта киноповесть стала основой сценария фильма «Сошедшие с небес».
Такая вот цепочка, к которой теперь добавлено еще одно звено — член Союза театральных деятелей РФ режиссер Анатолий Гершзон создал инсценировку, в основу которой легли обе повести. Анатолий Гершзон назвал свое прочтение сюжета «осознанными сновидениями».

режиссер Анатолий Гершзон
И это как раз позволяет мне слегка поиграть словами и смыслами названия спектакля — в заголовке этого текста.
Многие керчане смотрели и помнят фильм «Сошедшие с небес», потому что он снимался у нас, в Аджимушкайских каменоломнях, потому что он – о том, что случилось именно тут. А я к тому же поработала в военном музее, не раз ходила по экскурсионному маршруту, рассказывала посетителям о событиях обороны Аджимушкая. Показывала те самые колодцы, из которых добывали воду для раненых. И погибали за эту воду.
Сюжет переводит двоих – Сергея и Машу – бойца и медсестру, из погибших в тех, кому посчастливилось выжить. И они становятся на время картинок из последовательных сновидений – не двумя из двадцати миллионов потерь, а двумя, чьи жизни продолжились. Что могло быть в этих жизнях, если бы они не оборвались так безжалостно?

Возможно, именно с этими двумя все было бы вовсе не так, но это ведь сновидения. Так что мы следим из зала, как Маша и Сергей учатся жить без войны («вот тут поставить огневую точку – говорит Маша о мирном загородном пейзаже, а Сергей успокаивает юную жену – все, Маша, все, не надо»), едут навестить места своего детства, у них появляется дочка, а еще им приходится столкнуться и с бедностью, и с другими проблемами, но и радостей в жизни тоже хватает. В общем, обычная нормальная жизнь, почти обычная, ведь, даже оставшись живыми, они видят, как переплетены их военные судьбы с другими людьми. Ничего нет нормального в войне, понимаем мы, даже если она кончилась, даже для тех, кто в ней уцелел. Не дожил до встречи с дочерью отец Маши, а Сергей потерял мечту – не летать ему теперь из-за ранения. Мало этого, в ядовитом монологе тыловика декана – такая ненависть к людям, вынужденно поставленным в другие обстоятельства. «Все вам, кричит он, вам – фронтовикам», а дальше говорит гадости о медсестрах и санитарках, мол, ну понятно же…




Картины сновидений тоже следуют цепью: еще одна цепочка, как и путешествие самого сюжета от реальных событий к повести, оттуда к сценарию, от него – к спектаклю. Каждая картинка рассказывает о своем, вроде бы отдельном, но на деле говорит о человеческой общности. О том, как тесно переплетены все наши судьбы. И о цели наших жизней тоже сказано – в монологе старенькой почти ослепшей нянечки Никишкиной в детдоме (О. Безменова). А потом – сидит с газетой старый санитар Периформис (О. Сытницкий) и, как бы делая общий вывод, говорит о том, что люди значат друг для друга. Он стар, он видел многое и уже практически потерял всех своих ровесников, и он знает, что человек никогда не один и не должен быть совершенно один.

Тут обычно цитируют аристотелевское насчет человека — общественного животного, но мне больше нравится другой перевод этого определения – общественное существо. Да, вот такие мы – как выяснил еще Аристотель – нуждаемся друг в друге, для поддержки и внимания. Кстати, монолог Периформиса совершенно прекрасен с точки зрения обычного зрителя. Вот сидит на сцене человек, не жестикулирует, не играет лицом, не бросается кусающими словами, а просто и спокойно говорит. Причем, не коротко. И зал – слушает.


Есть в спектакле очень яркий сквозной персонаж — неизвестная, которая появляется в сновидениях, невидимая для героев, а мы, зрители, видим ее и то, какое действие оказывает она на людей. Можете называть ее Памятью, можете — совестью, не ошибетесь. Она так же реальна, как реальны в наших жизнях другие невидимые вещи — любовь, верность, доброта — да многое, что можно ощутить лишь по нашим поступкам, а руками не потрогаешь. Замечательная роль и замечательный персонаж, очень важный и нужный (А. Кузьменко).
Я попала на спектакль дважды – на прогон и буквально через пару дней на премьеру. И что для меня, обычного зрителя и даже не заядлого театрала служит главным показателем – мне не было скучно. Я смотрела и слушала, не испытывая желания «прокрутить, пролистать», дождаться следующей сцены. Вообще, я всегда иду на спектакли Анатолия Гершзона с удовольствием, потому что ни один меня-зрителя не разочаровал.

Снова скажу, зритель я самый обычный, не знаток актерских школ, приемов режиссуры и протча. Меня привлекает в театральных действах в первую очередь то, что привлекает во всех других видах искусства – передача энергии нам, зрителям. Поэтому для меня почти не играют роли декорации, а нет, тут я соврала, скажу по-другому – обилие и сложность их для меня не мерило. Наоборот – правильная театральная условность, цвета, линии, штрихи – там ветка, тут оконный переплет, фоном – экран с клубящимся дымом, так вот, когда она правильна, эта условность, то это тоже прекрасно. В этом спектакле она правильна.

Мне показалось, что спектакль не совсем ровный, местами актерам не хватает смелости, что ли, помните, как в фильме «Зимний вечер в Гаграх» старый чечеточник с сожалением говорит ученику, что тому не хватает куража (сейчас сказали бы драйва), при этом я не хочу сказать, что надо истерически рвать на груди рубаху и кричать громко, монолог Периформиса подтверждение тому, что это требуется далеко не всегда. Хотя иногда все же надо, в разной степени. Когда крикливая Котеночкина изображает скандал, наскакивая на молодых соседей (тут же принося им кастрюльку с едой и нянча их маленькую дочку) – в этом есть тот самый кураж, ну это неудивительно, актриса Л.Грешилова всегда играет самозабвенно. А насчет правильных истерик, то мерзкий скандал на свадьбе, затеянный пьяным деканом (Ю. Павленко) – вот отличная сцена, прекрасно отвратительная, как по мне… Так что, перечислила я, можно сказать, три степени этой актерской самозабвенности – от спокойной до самой громкой. И там, где ее нет или ее просто поменьше, действие слегка теряет яркость, пронзительность.
Но в целом Новый Любительский Драматический театр, вернее даже две театральные группы – кроме взрослых в спектакле заняты юные актеры образцового театра-студии «Лицедеи» — можно поздравить с тем, что спектакль состоялся. И мне кажется, что дальше он будет только лучше, когда в действе кроме опытных профессионалов заняты и совсем молодые актеры, так оно и бывает.
Кстати, премьера состоялась в День театра, так что всем причастным — двойные поздравления.

Отдельно скажу пару слов о фотографиях. Мне всегда интересно снимать спектакли, хотя это трудно, особенно если аппаратура самая обыкновенная и условия съёмки самые обычные, но для меня в этом своя изюминка – показать, что видит зритель, сидящий в зале, видит именно во время спектакля, а не рассматривая в сети постановочные кадры с отличным освещением. Каждому свое и пусть профессионалы снимают красивые и качественные кадры, я к этому отношусь прекрасно и с большим уважением, но мне нравится продолжать быть зрителем. К рецензии прикреплены десять снимков, еще полтора десятка будут в альбоме в большем размере, чем в этой публикации. Пока это все кадры, которые я отредактировала. Позже, может быть, альбом пополнится, я об этом скажу и снова дам ссылку на него.
Елена Черкиа
для литературного портала Книгозавр