Роман «Человек, который спит» Жоржа Перека
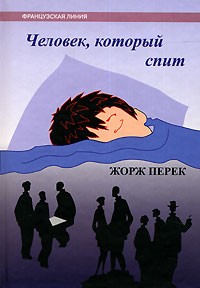
Несокрушимые «адаманты» научного социализма грезили о бесклассовом обществе, а Жорж Перек — о «бесклассовой прозе». Последнюю следует понимать отвлеченно от политики, буквально как не классифицируемую, свободную от диктатуры формализма, нарративности и прочего логико-теоретического насилия. В историю французского романа он вписал себя в новом для нее качестве – это «антиписатель», которому готовые рецепты литературной кухни не сулят ничего, кроме изжоги или тошноты. К слову, о «тошноте» экзистенциальной: Перек отверг главный объект исследования французского экзистенциализма как посредника между обыденным знанием и философией — абсурдный человеческий опыт. Ему интересен не столько абсурд, сколько его причудливое отражение в сознании, поэтому мир перековских не-героев (безымянных, внеисторических, несуществующих), воспринимается как игра мышления — внутренний сюжет рельефней внешнего, «монолог в пустоту» важнее диалога с бытием.
В этом третьем по счету романе-отражении жизнь «человека, который спит», сконструированная его полуснами, напоминает замкнутую дурную бесконечность, он — «море без берегов». Утрата четких жизненных ориентиров — тяжкий недуг его души и приговор ускользающему времени. Он обретает вечное лишь в настоящем и сиюминутном, в «здесь и сейчас». Перек отобрал у него все — имя, воспоминания — взамен даруя мир, обреченный на бездействие. Его «Я» не имеет цели, существование для него есть постоянная потеря «мгновения, которое не может остановиться», а значит — и равновесия. Он может быть свободен только в сфере субъективных устремлений, — примитивных, одноразовых и повторяющихся, — в отрешении и трагическом стоицизме равнодушия. Это отчужденное существо, которое пока еще чувствует связь с материальными предметами, но только потому, что само их навязчивое существование и солидно-неподвижное присутствие не позволяют достичь абсолюта невидимости. Именно в этом «физиологическом» повествовании, мелочном до неприличия «символическом натурализме» и состоит гениальность Перека: герой вовлечен в непрерывный процесс хабитуализации (или «опривычивания») повседневных действий, приводящий к социальной агнозии и автоматизму поведенческих реакций.
Стоит отметить, что мир вещей составляет очень важный уровень в художественной структуре миропонимания Перека, — отсюда может возникнуть ошибочное ощущение, что предметный мир более важен, чем «человек, который спит». У Сартра вещи подстерегают, обрушиваются на сознание, сама «материальность» — это чувство помехи, скованности и несвободы, вносящее в человека диссонансы. У Перека безымянный герой выступает как главный субъект новых отношений между вещами, что показывает некоммуникабельность его чувств и невозможность «обратной» социализации (то есть возвращения к людям). Жизненная энергия, которой должен обладать человек, переходит на предметы:
«Твоя комната – центр мира. Эта чердачная конура, эта скошенная лачуга, что вечно хранит твой запах, эта постель, в которую ты проскальзываешь один, эта этажерка, этот линолеум, этот потолок, чьи трещины, сколы, пятна и неровности ты пересчитывал тысячи раз, эта раковина, кажущаяся из-за своих крохотных размеров игрушечной, этот таз, это окно; эти обои, где тебе знаком каждый цветок, каждый стебелек, каждое сплетение, которые, несмотря на почти совершенную технику печати, никогда – а это можешь утверждать только ты – полностью не совпадают; эти газеты, которые ты читал и перечитывал, но будешь читать и перечитывать снова; это треснутое зеркало, которое всегда отражало лишь твое лицо, расколотое на три по-разному отражаемые и чуть налезающие друг на друга части, на что по привычке ты уже почти не обращаешь внимания, забывая о проступающем на лбу глазе, расщепленном носе, вечно искривленном рте, замечая лишь Y-образную метку, как почти забытый, почти стертый след от старой раны, удара саблей или хлыстом…»
В художественном мире Перека картина диалогических отношений между объектом и субъектом оборачивается странной метаморфозой: с одной стороны — антропоморфизация вещи как попытка преодоления ее отчуждения, с другой — «овеществление», «опредмечивание» человека, превращение его в некий биомеханизм. Объект в данном случае — это всегда материальный знак, деталь внешнего смысла, повод, важный не собственным содержанием, а своей способностью поддерживать на плаву фантазии апатичного субъекта. Апатия для «человека, который спит» — альтернативная форма взаимодействия со средой: аффективная привязанность к вещам, показанная в первом романе писателя («Вещи»), сменяется нейтральным созерцанием их присутствия, а безграничная, всепоглощающая жажда обладания — жаждой нелюбви, непривязанности, небытия. По словам Бориса Арватова в его размышлении «Быт и культура», связь индивидуума с вещью есть самая основная и самая определяющая из социальных связей, и эту связь герой решительно порывает:
«Ты хочешь оставить действия в области явного, фактического, неделимого, чтобы можно было сказать только: «ты читаешь», «ты одет», «ты ешь», «ты спишь», «ты идешь», чтобы действия, жесты не превращались в доказательство или разменную монету: твоя одежда, твоя пища, твои чтения больше не будут говорить за тебя, ты больше не будешь играть с ними, стараясь перехитрить. Ты больше не будешь вверять им изнурительную, невозможную, смертельную миссию тебя представлять».
Бытие «человека, который спит» — это отсутствие единого прямого, схватываемого разумом смысла. Вместо динамики действия и «геометрии драмы» — мимолетные отблески замедляющейся жизни. Вы читаете роман-эксперимент, от которого бессмысленно ждать реверанса в сторону традиционных алгоритмов сюжетного построения. Его можно было бы назвать «романом абсурда», если бы не одно но: для Камю абсурдность — это фундаментальное чувство, которое рождается из житейской скуки и выводит индивида из ада обыденного прозябания; для «человека, который спит» оно умирает, не успев сформироваться. Перек рисует не столько «смерть субъекта», сколько «смерть экзистенциализма», смерть любой философии вообще. Можно предположить, что он показывает интеллектуальный тупик человека после катастрофического столкновения с абсурдом. Но между «принятием без смирения», метафизическим бунтом и прыжком веры его герой выбирает… ни то, ни другое, ни третье. Сон становится последним убежищем сознания, где сама необходимость выбора отсутствует.

О, прекрасно!