«…и откуда-то сбоку
с прицельным вниманием
глядит злектрический пёс»
(Борис Гребенщиков)
В 1953-м году появилась на свет одна из лучших книг Рэя Брэдбери — «451 градус по Фаренгейту». История создания романа о социуме, где чтение карается законом, а книги подлежат уничтожению, символична: антиутопию, получившую мировую известность, Брэдбери писал в публичной библиотеке Лос-Анджелеса, на взятой напрокат пишущей машинке.

Библиотека и книги были священны для знаменитого фантаста. Они превратили его жизнь в уникальную атмосферу, в которой он дышал, мечтал, творил: «Ты становился писателем, плавая посреди библиотеки. И сквозь тебя проходили вибрации. Они оставались в тебе навсегда» (из интервью Рэя Брэдбери Дмитрию Диброву, 2005 год).
Даже девушки, с которыми писатель встречался в молодости — все, без исключения, — были библиотекарями. Вполне вероятно, что именно одна из этих юных особ стала прототипом Клариссы Маклеллан — хрупкой семнадцатилетней девушки, пробудившей в Гае Монтэге, главном герое романа, желание иной жизни, которая не имеет ничего общего с роботизированным беззаботным существованием общества, воспевшего массовую культуру и пустоту телесериалов, потерявшего связь с природой и способность к настоящему душевному общению.
«…мы живём в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время — как бумажная салфетка: в неё сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают… Люди не имеют свого лица», — констатирует дядя Клариссы. Нежелание его быть «бумажной салфеткой» приводило к арестам. В первый раз — за попытку проехаться по шоссе со скоростью не более сорока миль в час (низкая скорость движения оставляет шанс полюбоваться природой), во второй — за то, что ходил пешком.
«Мне иногда кажется, что те, кто на них (ракетных автомобилях — прим. автора) ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят иначе, как на большой скорости, — откровенничает Кларисса с Монтэгом. — Покажите им зелёное пятно, и они скажут: ага, это трава! Покажите розовое — они скажут: а, это розарий! Белые пятна — дома, коричневые — коровы».
И люди в этом бездумном мире — как пятна. Бесформенные пятна, которые охраняют пожарные — но не от огня, а от книг. Ведь именно от книг в безмятежном обществе исходит самая главная опасность — они «показывают поры на лице жизни». «Тем, кто ищет только покоя, — говорит бывший профессор английского языка Фабер, — хотелось бы видеть перед собой восковые лица, без пор и волос, без выражения», и в этом деле им прекрасно помогают пожарные.
«451 градус по Фаренгейту — температура, при которой воспламеняется и горит бумага». Этот эпиграф к роману — одновременно и рецепт от негативных эмоций в обществе, в котором живёт тридцатилетний пожарник Гай Монтэг, исправно изо дня в день выполняя свои обязанности: если проблема стала чересчур обременительной — в печку её, огонь разрешает всё.
Видеть, как пламя пожирает вещи — особое наслаждение. Главная прелесть огня, по словам начальника пожарной команды, брандмейстера Битти, в том, что он уничтожает ответственность и последствия. В тоталитарном обществе не может быть иначе — ненужные мысли выталкиваются центробежной силой контроля над человеческим разумом. Ведущей установкой государства является книгоненавистничество: книги — это предатели!
«Мы все должны быть одинаковыми, — наставляет Монтэга брандмейстер. — Не свободными и равными от рождения, как сказано в конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга, как две капли воды, тогда все будут счастливы, ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют своё ничтожество. Вот! А книга — это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее! Разрядить ружье! Надо обуздать человеческий разум. Почём знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека?»
На серьёзную литературу наложено суровое табу. «В живых» остались только комиксы, любовные исповеди и торгово-рекламные издания — благодаря им «вы можете всегда быть счастливы: читайте себе на здоровье». Шекспир, Уитмен, Фолкнер и другие столпы человеческой мысли подлежат немедленному уничтожению.
«Техника, массовость потребления — вот что привело к нынешнему положению», — говорит брандмейстер Битти. Гай никогда не задумывался об этом. Пока не встретил Клариссу. Непонятно, каким ветром занесло эту романтичную, тонко чувствующую девушку в общество сжигателя книг. Так утром прорастает одуванчик сквозь асфальт на проезжей части, и к обеду погибает — увы, Кларисса прожила недолго. Инакомыслие наказуемо. «Попала под автомобиль» — сухое описание её смерти сухими, бесчувственными людьми. И хоть твёрдой уверенности в её кончине нет, больше Монтэг девушку не увидит. Люди, такие же «странные», как она, здесь долго не живут — «огненный» режим не дремлет.
«А я ещё кое-что знаю, чего вы не знаете. По утрам на траве лежит роса. А если посмотреть туда,— кивнула Кларисса на небо, — то можно увидеть человечка на луне». Монтэг не помнит, когда в последний раз глядел на небо, но мимолётные встречи с девушкой наверняка запомнит на всю жизнь. «Странные» разговоры с ней подорвали его бездумное механическое существование с женой Милдред, живущей в мире бесконечных интерактивных мыльных опер и мечтающей установить четвёртую телевизорную стену стены ради того, чтобы иллюзия общения с телегероями-«родственниками» была полной.
Ещё одно потрясение Монтэг испытывает на очередном вызове, где видит женщину, отказавшуюся расстаться с запрещёнными изданиями. Её смерть в огне, в родном доме, вместе с любимыми фолиантами, стала для Гая точкой невозврата, и в его жилище появляется первая книга, тайно взятая из обречённого на сожжение дома.
Дабы не скатиться к банальному пересказу романа, скажем коротко: далее по сюжету — прозрение Монтэга, встреча с единомышленником, превращение в опасного преступника, жестокая борьба и уход в духовную оппозицию, где книги хранят «в уме», заучив их наизусть.
Брэдбери верит в человечество, и, наверное, поэтому спасает в финале своего героя, давая ему и горстке интеллектуалов шанс вернуть к жизни родной город, который испепеляет неприятельская авиация. Город бомбят, и на ум моментально приходит предание об уничтоженных Содоме и Гоморре. Выходит так, что сам того не сознавая, в своём романе Брэдбери создал миф о принципиально новом грехе — грехе не познания, выросшего на почве праздности и унификации мыслей?..
Бездуховность — ещё одна вина, за которую расплачивается город Монтэга. В государстве, порождающем команды книгосжигателей, человеческий гений способен проявиться только в уродливой форме. Лучшим образцом того, что мог создать здесь разум человека, является электрический пёс — механический монстр, который благодаря особой настройке обонятельной системы сам «находит цель и бьёт без промаха». Прокаиновая игла пса настигает неугодного государству гражданина в любой момент, это очень удобное и выгодное оружие. Ещё бы — ведь пёс не умеет чувствовать, он «не может любить или не любить». Он просто «функционирует», не выпуская никого из круга смерти подобно Церберу, стражу царства мёртвых.
Как и «Машина Благодетеля» из знаменитой антиутопии Евгения Замятина «Мы», электрический пёс — один из лучших символов тоталитарного общества, рождённых писательской мыслью. В этом же ряду — «двухминутки ненависти», описанные в романе Джорджа Оруэлла «1984», вышедшего в свет за четыре года до публикации романа Брэдбери. С Оруэллом Брэдбери вообще роднит многое, но главное — оба писали об особой форме существования языка и словарного запаса.
У Брэдбери «содержание фильмов, журналов, книг снизилось до известного стандарта» и превратилось в универсальную жвачку. В мире, созданном Оруэллом, всё обстоит намного жёстче. В романе «1984» речь идёт не просто об особом литературном формате, а о новоязе — языке, словарь которого с каждым годом не увеличивается, а уменьшается: «Каждое сокращение было успехом, ибо чем меньше выбор слов, тем меньше искушение задуматься. Предполагалось, что в конце концов членораздельная речь будет рождаться непосредственно в гортани, без участия высших нервных центров».
И Брэдбери, и Замятин, и Оруэлл убедительно говорили о феномене антикультуры, о вырождении личности, насаждении жестокости и насилия. Но поэтичнее всех и с глубоким оптимизмом написал об этом, пожалуй, только Брэдбери: «Когда-то в древности жила на свете глупая птица Феникс. Каждые несколько сот лет она сжигала себя на костре. Должно быть, она была близкой роднёй человеку. Но, сгорев, она всякий раз снова возрождалась из пепла. Мы, люди, похожи на эту птицу. Однако у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глупость совершили. Мы знаем все глупости, сделанные нами за тысячу и более лет. А раз мы это знаем и все это записано, и мы можем оглянуться назад и увидеть путь, который мы прошли, то есть надежда, что когда-нибудь мы перестанем сооружать эти дурацкие погребальные костры и кидаться в огонь. Каждое новое поколение оставляет нам людей, которые помнят об ошибках человечества».
Для самой поэзии в социуме, созданном Брэдбери, конечно же, места нет: ни в коем случае нельзя дать прочитать человеку несколько рифмованных строчок, чтобы он не возомнил себя владыкой вселенной. Для людей намного важнее уметь разобрать и собрать телевизорную стену, чем «измерить и исчислить вселенную». Но вот что совершенно непонятно: каким же образом в мире, не обременённом интеллектом, поддерживается развитие техники? Чтение комиксов вряд ли может способствовать разработке портативных передатчиков системы «Ракушка» или программированию электрического пса, но, к сожалению, на этот вопрос писатель ответа нам не даёт. Это придаёт роману некую долю схематичности, но возможно именно таким и был замысел автора — сосредоточить внимание читателя на последствиях внедрения технологий, а не на их развитии.
Генальность Брэдбери в том, что «451 градус по Фаренгейту» принадлежит к числу тех немногих научно-фантастических произведений, которые воплотились в жизнь с потрясающей точностью. Ещё и века не прошло с момента публикации романа, а книги всё активнее вытесняются плазменными панелями и «революционными» дисплеями, радиопередатчики типа «Ракушка» воплотились в гарнитуры для мобильных телефонов, трёхмерную графику «телевизорных стен» уже вовсю догоняет новый вид развлечения — «5D cinema». Обо всём этом Брэдбери пророчествовал 59 лет назад.
В двадцать первом столетии научно-техническая революция в очередной раз сломала привычный уклад жизни и движется семимильными шагами. А книги… Думать о том, что со времён Гитлера их никто не сжигал — по меньшей мере, наивно.
В прессу периодически просачиваются новости об очередных «перформансах», в ходе которых жгут творения опальных политических лидеров, неугодных общественных деятелей и литераторов. Автора этих рассуждений, к слову, весьма позабавила статистика запросов в поисковых системах Интернета. Google, например, любезно предлагает: «взять книги сжечь», «собрать все книги сжечь», «сжечь книги староверов» и т.д.
Ещё свежо воспоминание о том, как несколько лет назад СМИ пестрели заголовками о грядущем сожжении двух миллионов русских книг из обанкротившегося магазина в Вашингтоне. Книги как «бумажный хлам» — Брэдбери вряд ли мог себе такое представить. Для его героев литература была наследием и тайным знанием, крамолой и опасным оружием, но никак не хламом…
Пророчество Брэдбери проявляется, как невидимые чернила. Удручающая картина технического прогресса и регресса духовного, телевидениезация, виртуализация и, в конечном итоге, всеобщая примитивизация — лишь некоторые из безнадёжных диагнозов современного общества потребления, в котором для интеллектуальных ценностей, природы и настоящих чувств остаётся всё меньше и меньше времени и места.
«Произведения классиков сокращаются до пятнадцатиминутной радиопередачи, — брандмейстер Битти объясняет Гаю Монтэгу историю начала конца. — Потом ещё больше: одна колонка текста, которую можно пробежать за две минуты; потом ещё: десять-двадцать строк для энциклопедического словаря …немало было людей, чьё знакомство с «Гамлетом» ограничивалось одной страничкой краткого пересказа в сборнике, который хвастливо заявлял: «Наконец-то вы можете прочитать всех классиков! Не отставайте от своих соседей!. Понимаете? Из детской прямо в колледж, потом обратно в детскую. Вот вам интеллектуальный стандарт, господствовавший пять или более столетий».
Напоминают ли слова брандмейстера о сегодняшней реальности? Более чем. Для чего школьнику совершенствовать письменную речь, раздумывая над сочинением, когда вместо всего этого можно заполнить графы тестов? Зачем читать классиков, когда интернет-ресурсы и сборники изложений в избытке предлагают пересказы романов? К примеру, на одном из сайтов, предлагающих краткие содержания книг, можно ознакомиться с антиутопией «451 градус по Фаренгейту» всего за… 8 минут. Именно столько времени занимает чтение краткого содержания книги (время чтения значится на сайте возле каждого текста).
Яркой иллюстрацией к данным фактам служит ещё один монолог Битти: «Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история, языки упразднены. Английскому языку и орфографии уделяется все меньше и меньше времени, и наконец эти предметы заброшены совсем. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а после работы развлечения, а их кругом сколько угодно, на каждом шагу, наслаждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?»
На дворе год 2012-й. Что бы ты ни делал, эра высоких технологий диктует свои законы. Да, книги не запрещены, но уже давно не в почёте. Города тонут под тяжестью рекламных бигбордов, вырубаются сады, интернет заменил живое общение. Что остаётся человечеству?..
Радоваться, что ещё не пришёл электрический пёс, который, как поёт Борис Гребенщиков, «жив, как не снилось и нам, мудрецам».
Радоваться, любить и жить — по возможности так, как завещал в своём романе неисправимый романтик Рэймонд Дуглас Брэдбери:
«Каждый должен что-то оставить после себя. Сына, или книгу, или картину, выстроенный тобой дом или хотя бы возведённую из кирпича стену, или сшитую тобой пару башмаков, или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы, в чём после смерти найдёт прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на взращенное тобою дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив. Не важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы всё, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нём оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником. Первый пройдёт, и его как не бывало, но садовник будет жить не одно поколение».

ПОСТСКРИПТУМ
Пока писалась эта рецензия, пришла новость о смерти писателя.
Ушёл великий садовник, а с ним — целая эпоха.
Но книги его живы, книги его — цветут.
И будут цвести до тех пор, пока их будут читать, цитировать, пересказывать.
Пока они будут менять нашу форму…
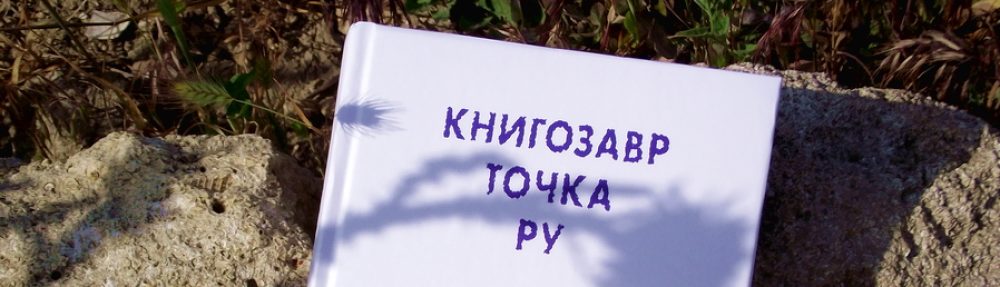
[quote comment=»30910″]Согласна с Зыряновым. Не самая лучшая рецензия, к сожалению, из представленных здесь. Перецитатировано. И сдается, жюри было не совсем беспристрасно, что рождает подозрения в ангажированности и снижает авторитет этого портала.[/quote]
Ну сдается, так сдается. Когда совесть у судей и координаторов чиста, подобные голословные обвинения им, как слону дробина.
Мы к нападкам относимся мирно, настолько они привычны и всегда выражены одними и теми же словами.
Согласна с Зыряновым. Не самая лучшая рецензия, к сожалению, из представленных здесь. Перецитатировано. И сдается, жюри было не совсем беспристрасно, что рождает подозрения в ангажированности и снижает авторитет этого портала.
[quote comment=»30631″]Скажите, а вам правда импонирует Чирикова?[/quote]
— Мне, да. А экологи поддерживают в этом Чурикову. Путь можно было и другой найти. Но Путин поплёвывает и отдаёт проекты строительства дороги своим давним друзьям-олигархам.
Скажите, а вам правда импонирует Чирикова?
«…Всё народное творчество, лучшие образцы эпоса, дошли до нашего времени только благодаря тому, что их цитировали и пересказывали…»
— Как известно, при пересказе остаётся и частичка того, кто заимствует. Я, как литератор, следящий за новостями в литературных СМИ, замечал и даже не раз, как один современный наш литератор жалуется на другого с тем, что тот неправильно процитировал из его книги.
Да что вспоминать из мира литераторов профессиональных, когда вот недавно позорник новый министр культуры Мединский в СМИ опубликовал статью, где он утверждает, что его процитировали неправильно.
Вы поняли, к чему я это?
Рэй Брэдбери умер, интернет-порталы пока держат в оригинале цитаты из книг Р.Брэдбери, но вы наверняка уже заметили, что творят путинские холуи и ментовская свора, которая подаёт лживые цифры и привирает факты, произошедшие на митингах.
Да что уж там. Вот ещё. Этот наш Путин на своём пропутинском митинге перед итогами выборов декламировал кого? Правильно, Есенина. Ну, а бучу в интернете видели по тому факту разыгравшуюся, что, как оказалось, он не совсем точно воспроизвёл есенинское стихотворение? Наверное, знаете.
Если уж этот жулик и якобы главный гарант нашего государства не может воспроизвести лишь часть из небольшого произведения, то целые книги будут перевирать на свой лад. У нас и Набокова и Хемингуэя трактуют по-своему некоторые околоправославные попы, а что дальше будет, если мы не скинем этот режим? Страшно подумать.
Несколько дос-атак на сайты, как это сделали с оппозиционными, и культурные копилки в Сети хакеры могут переписывать, что угодно. На сайтах Пентагона хакеры такой херни понаписали, что вся Сеть хохотала над этими американцами.
Простое цитирование ещё не гарантия хорошей перспективы для книги.
Я за то, чтобы все великие книги были отсканированы, но без распознавания текста, как это есть в американских библиотеках, чтобы ничего нельзя было исправить, но можно было бы читать с оригинала в виде картинки.
P.S. Совет вам, если вдруг где-то пригодиться вам писать про книги и их жизнь в будущем, то переосмыслите свою позицию, а то академики такого гвалта вам дадут, что потом не отмоетесь от ярлыка невежи. Книги должны быть сохранены хотя бы в электронных базах данных, но без тупого перекладывания в Word. У нас политики историю переписывают, четверостишие президенты воспроизвести не могут, а вы говорите: книга живёт за счёт цитирования.
Уважаемый Алексей Зырянов!
Благодарю за Ваши ремарки к моей статье и интерес к моей скромной персоне, ведь, как известно, нет ничего хуже равнодушия, а у Вас вышел комментарий на ого-го какое количество знаков. Действительно, спасибо Вам!
Мне очень жаль, что Вы не увидели моего впечатления о книге и не поняли моей аллегории, которая к рецензии имеет мало отношения — разве что образ садовника выступает связующим звеном.
Если бы Вы более внимательно читали мой постскриптум, то заметили б, что его смысл не имеет отношения конкретно к статье — это только моё личное отношение к НОВОСТИ о смерти писателя, которое я не могла НЕ высказать, публикуя статью в аккурат на следующий день — тогда, когда писателя уже НЕ было в этом мире. Рецензия писалась в день ухода Брэдбери, и вот когда она была почти дописана, и пришла новость о смерти. Да, на меня это произвело впечатление — к Брэдбери у меня особое отношение. Повторюсь — промолчать не могла. Так что причём здесь приз?.. Всего главнее быть честным с самим собой. Конечно, промолчать можно было — ну умер известный фантаст, ну и бог с этой новостью, пофиг, бровью не поведу и вывешу-ка лучше статейку, ведь приз же ё-маё!.. Однако, это не мой метод.
Утверждаю и буду утверждать, что книги живут, когда их не просто читают, а цитируют и пересказывают. Всё народное творчество, лучшие образцы эпоса, дошли до нашего времени только благодаря тому, что их цитировали и пересказывали. Если книгу не хочется растащить на цитаты, ей однозначно место в макулатуре (если только это не учебник по высшей математике и т.п:))))).
Кроме того, моя статья к литературоведению, в котором Вы пытаетесь меня обвинить, не имеет никакого отношения. Литературоведческая статья – это прежде всего труд научный, к написанию которого выдвигаются определённые требования.
Далее. Вы пишите «нет личного знакомства с книгой, нет впечатлений». То есть, как минимум, Вы не поняли, понравилась мне книга или нет. Ну что ж… Очень жаль (((. На мой взгляд, моё впечатление от книги (включая мнение о её недостатке) весьма прозрачно.
По поводу «личного знакомства». Да, я бы могла написать статью в духе поста-отзыва на каком-нибудь форуме и т.д. Но рецензия, к счастью, — жанр, который не ограничивается одним видом. И содержание различных видов рецензий отличается по присутствию тех или иных компонентов. Я выбрала путь, который интересен мне лично — отобразить в рецензии то, что я хотела бы знать, знакомясь с романом Брэдбери впервые. Так вышло, что моё видение рецензии не совпадает с Вашим, но это же так прекрасно, когда люди отличаются друг от друга, не так ли? 🙂
Спасибо за внимание.
С уважением, Н.А.
«…Дабы не скатиться к банальному пересказу романа, скажем коротко: далее по сюжету — прозрение Монтэга, встреча с единомышленником, превращение в опасного преступника, жестокая борьба и уход в духовную оппозицию, где книги хранят «в уме», заучив их наизусть…»
— Данный абзац просто-таки неудачный кусок. В нём самом сжат весь оставшийся отрезок сюжета, к которому автор рецензии подвёл до этого чересчур подробным описанием.
А следующим абзацем и вовсе добили описательную сторону своей рецензии.
Такое впечатление, что автор рецензии страховался от того, о чём я скажу ниже.
Рецензия преобразовалась в литературоведческую статью.
Масштабное копирование из цитатника на текст Брэдбери.
Вместе с верными сравнениями других мировых авторов антиутопий. В отдельных сравнительных частях – похвально, но в целом – похоже на работу именно над цитатами. Нет личного знакомства с книгой, нет впечатлений, но есть академическая уравниловка для школьной программы, мол, Бредбери писал о том и о сём, обличал то и вот то. Авторскую мысль можно было бы в конце раскрыть, но этот коротенький «Постскриптум» наводит меня на смутные сомнения.
«…Но книги его живы, книги его — цветут.
И будут цвести до тех пор, пока их будут читать, цитировать, пересказывать.
Пока они будут менять нашу форму…»
— Сама фраза в своей пафосной манере отличается весьма и весьма от предыдущего просто-таки академического текста. Потому как сравнение в постскриптуме неудачное и наверно оно – набросок одного автора к уже давно готовой работе другого автора.
Вот если бы было прикосновение к книгам, то да – уместно здесь убеждение, что цветы-книги будут цвести дальше. Но цитирование и пересказ цветов-книг… малопонятная аллегория отношения к цветам. Что значит цитирование книг? Вот если бы распространять некие семена-смыслы цветов-книг, чтобы, к примеру, некий, представим так, великий сад Брэдбери цвёл дальше. Как же они (книги) будут менять нашу форму, если автор этой своей работой и пожеланием советует… цитировать, то есть – делать то, что сам Рэй Брэдбери описал в отрицательном ключе.
И сам автор же в своей работе написал вот это: «…К примеру, на одном из сайтов, предлагающих краткие содержания книг, можно ознакомиться с антиутопией «451 градус по Фаренгейту» всего за… 8 минут….»
А также вот это чуть ранее: «…в конечном итоге, всеобщая примитивизация — лишь некоторые из безнадёжных диагнозов современного общества потребления, в котором для интеллектуальных ценностей, природы и настоящих чувств остаётся всё меньше и меньше времени и места…»
Уважаемая Надежда Агафонова, вы предоставили большой текст рецензионно-литературоведческой статьи возможно вашей давней работы, но своей же (уж точно своей) концовкой вы растоптали понятие книги до простой, той самой «всеобщей примитивазации». Это огромный прокол, который бы не допустил автор, пишущий от и до, понимающий весь мир книги Рэя Бредбери «451 по Фаренгейту».
Вышло же компиляция какая-то: понимающего мир Брэдбери современника и желающего завладеть призом недопонимающего его ребёнка «всеобщей примитивизации».
Рэй Брэдбери дорожил книгами, а автор концовки этой работы – дорожит лишь цитатами.